Раздумья русских поэтов серебряного века о духовном смысле творчества
Все, все, что гибелью грозит,
для сердца смертного таит
неизъяснимы наслажденья…
А. С. Пушкин. «Пир во время чумы»
Бытует простодушное и во многом дилетантское мнение, что всякая подлинная поэзия непременно проливает в душу покой и умиротворение. Да и не это ли имел в виду один поэт, когда утверждал: «Болящий дух врачует песнопенье»? Анализ поэтического наследия рубежа XIX…XX веков показывает, что все не так уж просто.
 Еще свежо в памяти время, когда в образовательных программах и не упоминалось ни о каком «серебряном веке». Целое созвездие блистательных русских поэтов (Брюсов, Сологуб, Бальмонт, Андрей Белый, Ахматова, Цветаева, Гумилев, Мандельштам и другие) более полувека было недоступно массовому читателю. В учебниках и хрестоматиях их если и упоминали, то лишь как ненавистных «модернистов» и «декадентов» (маленькое исключение делалось иногда только для политически «раскаявшегося» Брюсова и успевшей стяжать мировую славу Ахматовой).
Еще свежо в памяти время, когда в образовательных программах и не упоминалось ни о каком «серебряном веке». Целое созвездие блистательных русских поэтов (Брюсов, Сологуб, Бальмонт, Андрей Белый, Ахматова, Цветаева, Гумилев, Мандельштам и другие) более полувека было недоступно массовому читателю. В учебниках и хрестоматиях их если и упоминали, то лишь как ненавистных «модернистов» и «декадентов» (маленькое исключение делалось иногда только для политически «раскаявшегося» Брюсова и успевшей стяжать мировую славу Ахматовой).
Потом, на волне либеральной переоценки ценностей, ситуация изменилась с точностью до наоборот: под дружное «ура!» эстетически изголодавшихся интеллектуалов возвращенные поэты были мгновенно «канонизированы» и превращены в культовые фигуры. До того пленительной, завораживающей, изысканно-элитарной выглядела эта «запрещенная» поэзия в сравнении с казенным агитпропом и пресловутым соцреализмом сталинско-брежневской поры. Эти чарующие, непривычные для «пролетарского» слуха словосочетания и образы как будто и впрямь излучали неземное, серебристо-матовое сияние.
Недаром «золотой век» русской поэзии (эпоха Пушкина) ассоциировался с дневным — ярким и ясным — солнечным светом, тогда как «серебряный век» вызывал ассоциации с магическим лунным мерцанием, необъяснимым образом задевал и тревожил «ночную сторону души». Вся пронизанная мистическими лучами, эта поэзия утоляла накопившуюся в обществе жажду запредельного, потустороннего и по-своему насыщала сердца, изнывающие в безрелигиозном вакууме.
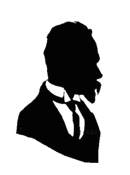 Понятие «серебряный век» стало ажиотажным, и даже откровенный демонизм некоторых «посеребренных» мэтров либо не замечался вовсе, либо воспринимался как откровение, как особая поэтическая смелость. Восхищало все: и утонченное кощунство Брюсова, и упоение отчаянием у Мережковского, и сологубовское прославление тлена и небытия, и северянинское кокетливое неразличение Христа и антихриста. Ведь именно на рубеже XIX…XX столетий возобладало понимание творчества как самозабвенного опьянения, как мистического экстаза, отдающего художника во власть таинственных космических стихий.
Понятие «серебряный век» стало ажиотажным, и даже откровенный демонизм некоторых «посеребренных» мэтров либо не замечался вовсе, либо воспринимался как откровение, как особая поэтическая смелость. Восхищало все: и утонченное кощунство Брюсова, и упоение отчаянием у Мережковского, и сологубовское прославление тлена и небытия, и северянинское кокетливое неразличение Христа и антихриста. Ведь именно на рубеже XIX…XX столетий возобладало понимание творчества как самозабвенного опьянения, как мистического экстаза, отдающего художника во власть таинственных космических стихий.
Но, как во все времена, так и в эту эпоху, самые чуткие души — одни отчетливо, другие смутно — прозревали, что это блаженное забытье таит в себе нечто зловещее, жуткое, гибельное. Не только Отцы Церкви и величайшие христианские подвижники-аскеты, но и многие признанные кудесники художественного слова прямо или прикровенно писали об этом. О сладкой отраве творческого исступления и о тяге поэта к самоуничтожению хорошо знал уже Пушкин, вложивший в уста своего героя «гимн Чуме» («все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья…»). И чем крупнее художник, чем мощнее его творческий дар, тем мучительнее подчас сознавал он в себе этот блаженный дурман самоистребления, это пугающе-сладкое безразличие к добру и злу, возникающее в момент наивысшего поэтического восторга. Творческая страсть на поверку оказывалась так же чревата демонической одержимостью, как и страсть эротическая. Вот как писал об этом гибельном безумии один из крупнейших поэтов серебряного века Владислав Ходасевич:
Лети, кораблик мой, лети.
Кренясь и не ища спасенья.
Его и нет на том пути.
Куда уносит вдохновенье.
 А общепризнанный кумир и корифей той эпохи Александр Блок уже прямо и недвусмысленно утверждает в одной из статей: «Искусство есть чудовищный и блистательный ад». Ему же (Блоку) принадлежат потрясающие и страшные по своей прозорливости строки, адресованные собственной Музе:
А общепризнанный кумир и корифей той эпохи Александр Блок уже прямо и недвусмысленно утверждает в одной из статей: «Искусство есть чудовищный и блистательный ад». Ему же (Блоку) принадлежат потрясающие и страшные по своей прозорливости строки, адресованные собственной Музе:
Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных.
Поругание счастия есть
И такая влекущая сила.
Что готов я твердить за молвой.
Будто Ангелов ты низводила.
Соблазняя своей красотой.
Обратите внимание на заключенную в первом четверостишии скрытую антитезу: если Евангелие — это «благая весть» (в переводе с греческого), то искусство, поэзия — «о гибели весть», то есть нечто противоположное Божественному откровению о спасении. Самое же страшное то, что в этих роковых «напевах» заключена непреодолимая «влекущая сила», жуткая соблазняющая «красота», способная «низводить» (соблазнять и губить) самих Ангелов.
Еще более определенно и не менее сильно сказал об этом все тот же Ходасевич, младший современник Блока:
Нет, не понять, не разгадать:
Проклятье или благодать, -
Но петь и гибнуть нам дано.
И песня с гибелью — одно.
Как и всякое прельщение*, поэтическая завороженность — как следует из «нечаянных» стихотворных проговорок самих поэтов — поначалу манит обещанием неземного блаженства, соблазняет волшебной властью над необъятными мирами («и раскрывается неуловимым метром Рай распростертому в уныньи и в пыли» — О. Мандельштам), а под занавес оставляет духовно опустошенного и мертвенно равнодушного ко всему творца лицом к лицу с тошнотворной бессмыслицей бытия. И тогда мы — после всех «бурь» и «гроз» поэтического экстаза и вместо них — вдруг видим кривую усмешку живого мертвеца (сквозной образ у Блока и Ходасевича) и слышим леденящие душу строки:
Конечно, есть и развлеченья:
Страх бедности, любви мученья.
Искусства сладкий леденец.
Самоубийство наконец.
* «Прельщение» или «прелесть» — понятие, используемое в богословской и аскетической литературе. Обозначает демоническое наваждение, подпадение под власть бесовских чар.
Это жутковатое размышление в стихах принадлежит еще одному замечательному поэту начала XX века Георгию Иванову. И как тут не вспомнить Тургенева, который (в рассказе «Призраки») уподоблял творчество вампиру, высасывающему из художника живую кровь!
 Поистине такие признания способны и впрямь посеять мысль, что искусство всегда греховно, что творчество, в принципе, по сути своей демонично и безбожно, что художник неминуемо губит свою душу и души всех, кто подпал под чары его поэзии. Ведь говорится же в одной полушутливой притче, что огонь под кипящим котлом, в котором мучается осужденный на вечную погибель убийца, погаснет раньше, чем под котлом писателя, так как книги последнего продолжают читать и читать. И не знаменательно ли, что в античной мифологии понятия «гений» и «демон» означали практически одно и то же?
Поистине такие признания способны и впрямь посеять мысль, что искусство всегда греховно, что творчество, в принципе, по сути своей демонично и безбожно, что художник неминуемо губит свою душу и души всех, кто подпал под чары его поэзии. Ведь говорится же в одной полушутливой притче, что огонь под кипящим котлом, в котором мучается осужденный на вечную погибель убийца, погаснет раньше, чем под котлом писателя, так как книги последнего продолжают читать и читать. И не знаменательно ли, что в античной мифологии понятия «гений» и «демон» означали практически одно и то же?
И здесь мы сталкиваемся с очень сложной проблемой, поскольку велик соблазн — уличив поэзию в «проклятьи заветов священных», проклясть навеки и само искусство.
Чтобы не запутаться с самого начала, необходимо иметь в виду следующее. Согласно христианскому учению, враг рода человеческого, в отличие от Творца вселенной, начисто лишен созидательной силы и творчески бесплоден. Все, что он может, — это поганить и портить исходящее от Бога и Ему принадлежащее. Недаром отец Павел Флоренский (выдающийся богослов и ученый, еще один современник Блока) называл лукавого жалкой «обезьяной Бога».
Таким образом, дар творчества (по своим истокам) — это Божий дар, знак сокровенного богоподобия человека, тот самый талант, который грешно и нечестиво зарывать в землю. И который, в зависимости от того, как им распорядиться, может послужить как к спасению, так и к погибели:
Как обидно — чудным даром,
Божьим даром обладать.
Зная, что растратишь даром
Золотую благодать.
И не только зря растратишь
Жемчуг, свиньям раздаря.
Но еще к нему доплатишь
Жизнь, погубленную зря.
Г. Иванов
Как же быть? Как совместить талант и страх Божий, творческую свободу и спасение души?
Так вот, оказывается, лучшие поэты серебряного века не только сознавали опасность и соблазнительность искусства, но прозревали и пути преодоления этой пагубы. Например, Марина Цветаева — пожалуй, самый страстный и безоглядно-исступленный поэт серебряного века. Свое понимание сути творчества она с предельной честностью сформулировала в эссе с характерным названием «Искусство при свете совести». Несколько цитат:
«Стихи и отрешают, и обольщают. То же сомнительное пойло, что в котле колдуньи…», «Когда я пишу.., я никакому богу не служу, кроме ветра…». Дальше еще определеннее: «Состояние творчества есть состояние наваждения… Что-то, кто-то в тебя вселяется…»; «Демон жертве платит: ты мне — кровь, жизнь, совесть, честь; а я тебе — такое сознание силы, такую власть над всеми (кроме себя, ибо ты — мой!), такую в моих тисках свободу, что всякая иная сила будет тебе смешна, всякая иная власть — мала, всякая иная свобода — тесна, и всякая иная тюрьма — просторна». Вот уж воистину знает человек, о чем говорит! И зная это, ведает и другое: «Когда же мы, наконец, перестанем принимать силу за правду и чару за святость!» И главное: «Земля рождающая безответственна, а человек творящий — ответствен… и поскольку художник — не коралловый куст, — он за дело своих рук в ответе».
Интересно, что у Марины Цветаевой есть стихотворный цикл («Стол»), где письменный стол — рабочее место поэта — функционально сравнивается со множеством вещей (с зеркалом, с гробом и даже, обиняками, с Голгофским Крестом!) и среди прочего уподобляется «столпу столпника», то есть месту добровольного заточения христианского аскета-отшельника. Приведем цитаты:
Мой письменный верный стол! (…)
…Строжайшее из зерцал!
Спасибо за то, что стал
(Соблазнам мирским порог)
Всем радостям поперек.
Всем низостям — наотрез!
Дубовый противовес… (…)
…Спасибо за то, что блюл
И гнул. У невечных благ
Меня отбивал — как маг -
Сомнамбулу. (…)
…Столп столпника, уст затвор -
Ты был мне престол, простор…
Да, легко узнаваемое, характерное для Цветаевой словесное «волхвование». Но за пестрым нагромождением образов явственно проступает основная мысль, способная удивить: творчество на предельной своей высоте — не столько вольный пир воображения, сколько аскеза и подвиг (!). Должно стать ими — уточним от себя, памятуя о печальной судьбе самого поэта.
К той же теме (возвращение творчеству его божественной миссии) вновь и вновь возвращается в своих статьях и эссе Александр Блок: «Мы как бы возведены были на высокую гору, откуда предстали нам все царства мира в небывалом сиянии лилового заката (см. третье искушение Спасителя в пустыне (Мф. 4, 8…10) — О.С.). И мы отдавались закату, красивые, как царицы, но не прекрасные, как цари, и бежали от подвига. Оттого так легко было непосвященным броситься вслед за нами…». И дальше отчетливо и решительно формулируется стоящий перед художником выбор: «Или гибель в покорности (то есть в покорности темным космическим стихиям — О.С.), или подвиг мужественности». А еще несколькими строками ниже следует чуть ли не развернутая «программа» истинного служения поэта, в которой упоминаются «послушание», «ученичество» и «духовная диета». Призыв к духовному трезвению, к тому, что Святые отцы называли «различением духов», звучит и в стихотворении «Поэт и народ»: «…Но ты, художник, …знай, где стерегут нас ад и Рай. …Твой взгляд да будет тверд и ясен». А в записных книжках Блока, глубоко чувствовавшего религиозную подоплеку искусства, есть примечательная фраза о том, что религия — не мистическая «богема души», а мужественное «стояние на страже».
И здесь мы вплотную упираемся в мучительный парадокс: творчество соблазнительно, рискованно, опасно, и оно же — благословенно и благодатно. Оно — и искушение, и религиозный долг гения, Божественное призвание («глаголом жги сердца людей»). И источник пагубы, и возможность подняться над властью греховной тьмы и тлена, возможность преодолеть роковую подавленность падшей человеческой природы, увидеть зло в себе и вокруг и осуществить поэтически-пророческий суд над этим злом.
Несомненно, что творческое вдохновение освобождает человека от власти всего земного, дольнего, буднично-суетного. Но при духовной пассивности творца, при его полном безволии и недостатке духовной трезвости благословенная независимость от всего земного и обыденного может обернуться гибельной «независимостью» от совести и чести, от заповедей Божиих и Его Духа. Красноречивее других писал об этом опять же Блок в уже цитировавшемся стихотворении «К Музе»: «И была роковая отрада в попираньи заветных святынь…».
И вот здесь нам представляется уместным привести и кратко прокомментировать еще один лирический шедевр — тоже посвященный Музе, — автором которого является другой выдающийся участник той легендарной эпохи — Анна Андреевна Ахматова:
 Муза
Муза
Когда я ночью жду ее прихода.
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке?!
И вот вошла. Откинув покрывало.
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы ада?» Отвечает: «Я».
Сладостно-страшная встреча с Музой (то есть с поэтическим вдохновением) превосходит своей значительностью все обыденные ценности. Незыблемые минуту назад, они меркнут и отступают перед внезапно явившейся беспечной шалуньей — «милой гостьей с дудочкой в руке»*. Беспечный облик ее обманчив, веселая беззаботность и легкомыслие — только кажущиеся. Этой загадочной страннице, оказывается, открыты необъятные бездны мироздания, доступны запредельные тайны, неведомые простым смертным.
* Здесь поэт использует традиционный мифологический образ Музы — спутницы покровителя искусств Аполлона.
Причем Ахматова, если внимательно вглядеться в текст стихотворения, отнюдь не отождествляет искусство ни с Дантовым адом*, ни с адом вообще. Аллегорическое описание преисподней в бессмертном творении Данте не имеет ничего общего с пресловутой зачарованностью царством зла, а являет собою, скорее, могущественное обличение зла и беспощадный суд над ним (хотя и в специфичной форме, соответствующей полумифологическим средневековым представлениям римо-католиков о загробном мире). Так уж получается, что Муза (высшее творческое ясновидение) многое знает про ад (про зло и грех), но по изначальной природе своей не является ни его пленницей, ни служанкой адских сил. Подлинное искусство, по мысли Ахматовой, обладает страшной способностью смотреть в лицо аду, но не потому, что оно — его исчадие, а потому, что оно знает ему цену и располагает против него мощным оружием. Каким? Отчасти ответ на этот вопрос уже содержится в цитировавшихся выше высказываниях писателей и в наших комментариях к ним.
* Первые 34 песни «Божественной комедии» Данте Алигьери описывают сошествие героя во ад и созерцаемые им посмертные мучения грешников. В связи с этим за первой частью поэмы закрепилось наименование «Ад» (за второй соответственно — «Чистилище», за третьей — «Рай»).
Но опыт показывает, что понимание истины еще не гарантия ее осуществления. Достаточно вспомнить трагические судьбы многих гениев слова, самоубийство Цветаевой, предсмертное удушье и опустошенность Блока. Это великие поэты, которые, в большинстве своем, хотели одолеть «духов злобы поднебесных» своими собственными силами. И их судьба — наглядный урок того, что подобная задача непосильна для предоставленного самому себе человека, даже если этот человек — гениальный художник. Творчество должно стать таинством встречи человека и Бога. И тогда — дерзаем верить — поэзия будет подобна или даже равноценна молитве, как это было у св. Иоанна Дамаскина, св. Ефрема Сирина или, отчасти, в пушкинском переложении великопостного молитвословия:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой.
Любоначалия, змеи сокрытой сей.
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья.
Да брат мой от меня не примет осужденья.
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.






